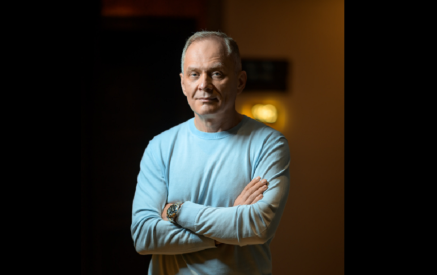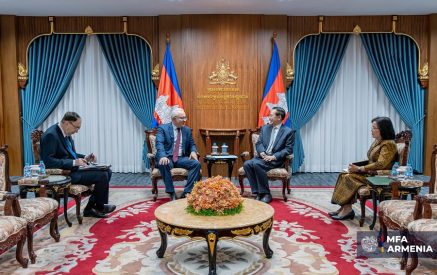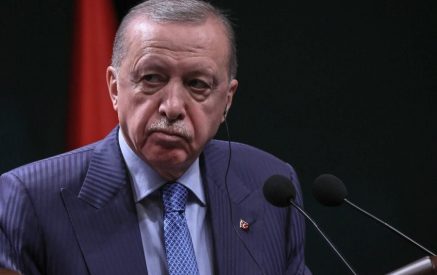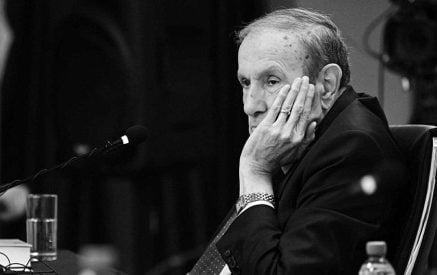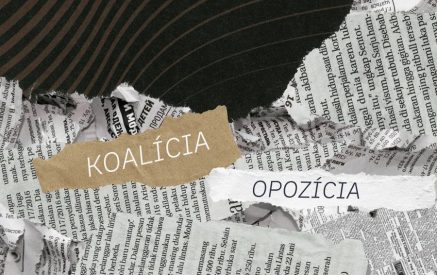Почему Крёз не был самым счастливым человеком в мире
Откуда в мире появилось зло? Христианские философы веками по-разному отвечали на этот вопрос, горячо спорили друг с другом. Но, конечно, они не могли обойти один из главных догматов этого учения — концепцию «первородного греха». Однако в XVIII веке французские «просветители» (которые, на мой взгляд, кое-что действительно «просветили», а кое-что и «омрачили») объявили, что первородный грех — это сказка.
Соответственно, природа говорит человеку: «Зря ты ищешь своё счастье вне того мира, в который я тебя поместила». «Природа, — писал Дидро, — освободит твоё сердце от мучающих тебя страхов и тревог».
Так как идея первородного греха была отвергнута, а зло при этом оставалось, потребовалось рациональное объяснение или, так сказать, «оправдание». И вот единомышленник Дидро — Вольтер — предлагает следующее «утешение»: жизнь полностью застынет без человеческих слабостей, ведь самые сильные импульсы нашей жизни исходят из инстинктов и страстей, которые, как правило, не всегда приемлемы с точки зрения морали.
Читайте также
Сугубо с научной точки зрения такое утверждение сложно назвать открытием: да, в природе есть и то, и другое. И что с того? Эти туманные допущения попытался конкретизировать философ и математик Пьер Мопертюи, живший в ту же эпоху. Он полагал, что нужно установить определённую шкалу, которая с точки зрения счастья будет рассчитывать соотношение удовольствий и неприятностей. Отказ от богословского подхода и абсолютных ценностей приводит к подобным, довольно комичным, вычислениям.
Во второй половине XVIII века против них выступил Иммануил Кант, который справедливо заметил, что взвешивать и сравнивать можно только однородные явления.
Если приведем бытовой пример: допустим, есть мороженое — это счастье. Встретить спутницу жизни — тоже счастье. Сколько нужно съесть мороженого, чтобы одно уравновесило второе?
А кто сказал, что главной целью человека должно быть счастье?
Именно это сказано в Декларации независимости США, написанной под влиянием французских просветителей. Но ни один текст, каким бы влиятельным и исторически значимым он ни был, не может считаться истиной в последней инстанции.
Что же получается? Все мои помыслы должны быть сосредоточены на том, чтобы «выжать» из жизни как можно больше счастья, то есть удовольствия (что бы мы ни понимали под этим)? А как же долг, служение, миссия, солидарность с другими людьми? Они ведь иногда противоречат счастью и удовольствиям. Или, по крайней мере, тем представлениям, которые обычно вкладываются в понятие счастья.
…Царь Лидии Крёз в гостях у себя принимал греческого философа Солона. Он показал ему свои несметные богатства и спросил: «Скажи, пожалуйста, кто самый счастливый человек на свете?» — надеясь, конечно, услышать своё имя.
Но философ в качестве примера величайшего счастья рассказал о некоем афинянине по имени Теллос — тот жил в родном городе, питался плодами своего труда и погиб на войне за родину.
После подобных примеров Крёз не выдержал и спросил:
«Так ты не считаешь меня счастливым?». Ответ философа был следующим:
«Боги не дали нам возможности знать границы нашей жизни. Назвать счастливым ещё живого человека — всё равно что объявить победителем солдата, который ещё сражается».
Арам АБРАМЯН
На картине: Царь Лидии Крёз. Художник Клод Виньон, масло, холст
Газета «Аравот»,
06.05.2025