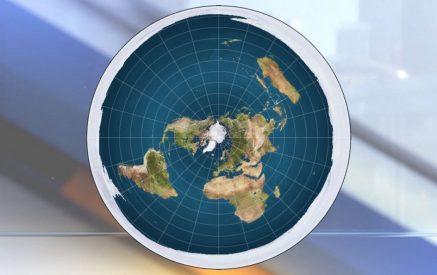1. Погода в Шотландии
Немного сухо, немного шершаво, льдисто и до удивления жарко было во рту у девушки, сидевшей на горе. Ветер пощупывал и поворачивал ее с самым непринужденным видом, несмотря на давнюю свою слепоту, и прикидывался равнодушным к ее сладости. Девушка, в свою очередь, смотрела неопределенно грустно, отвечая неподдельным равнодушием на равнодушие лживое. Правда, в глубине этого своего равнодушия она подозревала в ветре некоторую степень горнодушия, некоторую заинтересованность породой, некоторый шок от непривычной сласти, которую в своем отшельничестве ветер нечасто встречал и мало понимал.
В этот момент девушке становилось весело, и она вставала и прыгала, прыгала очень весело, высоко-высоко, жестоко выставляя перед слепым и дряхлым ветром новые преграды, совсем не похожие на грубые движения скота и меланхолические вздыхания гор. И внезапно с ветром сотворилось нечто необыкновенное; дело в том, что ветер может в одно нежданное утро обернуться статным принцем.
Ветер был очень взволован фигурою той, кто без остатка отдавалась в его об’ятиях, и потому стал плохо соображать. Но все это продлилось недолго.
Девушка громко вскрикнула. Ее держали чьи-то желтые руки и не отпускали – да и странно было бы отпустить в такое время, в таком месте, в такую тишину. Да нет же, зачем отпускать. Отпустишь – и девушка достанется ветру.
Томми не хотел, чтобы девушка досталась бы ветру. И поэтому девушка досталась Томми, а ветер ушел к своим пастухам и евнухам, хранителям шотландской мудрости.
Томми томился, Томми смеялся. Томми целовался, Томми цеплялся. Томми был англичанин, но расцепившись он поцеловал свою неискреннюю любовницу под мышку, на шотландский манер. Он старался держаться безукоризненно, ибо боялся, не станет ли она рассуждать о древних шотландских богословах.
Потому и решил он нарвать ей диких горных цветов. И стал он спускаться в лощину между гор, и стал выбирать, прикурив, стебельки подлиннее.
Но все в этой Шотландии было каким-то отчаянным и рано состарившимся, и цветы были ломкими, желтыми – кармелитскими, не то бенедиктинскими.
Он посмотрел на небо – со стороны моря ему почудился мощный гул, грозно воцарившийся в королевстве робких, астматических цветов. Он посмотрел на небо глупым взглядом, из тех, какие с особой легкостью перескакивают с венчиков на облака.
На небе были только легкие перышки, такие же недружелюбные и сухие, как цветы под ногами. Томми доделал букет и стал взбираться на небольшой холм, выходивший к морю.
Первое, в чем он убедился, было то, что небо твердо стояло на своих унылых чудищах, не давая поводов к беспокойству, не меняя покровительнственно лирического окраса. Но что-то было не так.
Может быть, его девушка тоже что-то почувствовала? Он посмотрел туда, где она оставалась лежать.
Однако она уже сидела и подносила ко рту горсть какого-то шотландского сыра. Подходя к ней, Томми убедился, что рука у нее застыла и не двигалась. Медленно подбираясь ближе, он припомнил свое первое приближение и подумал невольно, как неимоверно глупы эти шотландские девицы. Ну а эта – какая потеха – только морем и любуется, и плевать ей на цветы и на ветер. Можно было подумать, она просидит так целую вечность и никогда не обратится к прекрасным и мудрым горам, любовь к которым она кропотливо впитывала с раннего детства. Впитывала, как и гордость шотландскую, слушая древние песни о горах и магах.
Но по всей ее теперешней позе, по виду ее скотски безразличной спины можно было предположить, что она порвала с миром волшебного вереска и полностью отдалась жестокой силе океанского плеска.
— Ты хоть книги какие-то читала? – спросил ее молодой англичанин и принялся усаживаться рядом.
Но не успел он поднять глаза к морю, как букет выскользнул из его вспотевшей руки.
В бухте неподалеку корчилось и пыхтело два огромных стальных остова; на горизонте вздымался густой пар – нельзя было видеть, что там происходит. Что-то в этой картине поразило Томми, хладнокровного офицера британского флота. Значит, понял он, все доходившие до него слухи имели реальные основания, и чокнутые немцы решили затопить свои собственные корабли. Но он сказал только:
— Ну вот, опять заваруха у начальства, какие-то опыты ставят.
Безмолвная девушка при этих словах сильно задрожала.
2. Влияние военно-морского господства на мировую историю
Прошло уже тридцать, сорок лет, как стали пробуждаться эти безумные чудища моря, рожденные в темных мастерских темных людей, вознамерившихся направить их великую мощь на потеху своей индустриальной алчности.
Люди сперва пытались безраздельно владеть и распоряжаться их стальными телами и душами. Но время шло, и корабли росли и достигали устрашающих и подавляющих размеров, и запрезирали они творцов своих, и стали владыками морей.
И со страхом стали творцы вслушиваться в упорное, неустанное шипение огромных гортаней, со страхом наблюдали унификацию снарядов и калибров, с ужасом наблюдали, как год от года расшатывались сваи старой Европы, а монстры между тем соблазняли все новых красавиц и красавцев, инженеров и генералов на преданную службу, перекраивали границы государств, запускали центрифуги циклонов, накладывали вето на приливы и отливы.
Никто не помнил, а какого момента эти эскадры стали покушаться на счастье планеты, но эскадры были неумолимы. Они выслеживали и разлучали влюбленных, находили и убивали одиноких, выжимали последние капли из поддавшихся их томному зову, подобно японскому дракону, удушившему остров, подобно самураю, сдавившему девственницу в предвидении необратимой исторической асфиксии.
Надсадное шипение сливалось в пророчества, пророчества складывались в неясный гул катаклизма, и вскоре все прочие темы были забыты, и весь свет пребывал накануне тьмы и не знал, что готовится в жерле котлов, как не знает японская девственница, чего ожидать в камышах на берегу.
Таков был закат эпохи слабых нервов и длинных платьев. И никто уже не удивлялся: ведь, по слухам, корабли-гиганты были частью проекта по расщеплению земли. Иные грозилио, что сцепление эпох разрушается и настает воспламенение времен. Другие, выдавая себя за посвященных в неведомые пророчества, предрекали: посланцы космоса понесут планету к далеким, неведомым лунам.
Но не прошло многих лун, как пробуждение великих породило цепь необычайных вторжений, ибо большое всегда вызывает к жизни малое. Корни мира предали стальных титанов проклятью и извергли полчища преследователей, и само небо ополчилось на их самовластье.
И не прошло многих лун, как племя карающих субмарин устремилось во все концы света в поисках своего великодержавного врага, оплодотворяя глубины торпедами пиршественного разрушения; и не прошло многих лун, как в заоблачной выси блеснуло лезвие металлических ангелов.
И пришла война, и прошла война, расшатав что-то незыблемое в сердцах людей. И прошло уже несколько лет с той поры, как лучшие эскадры германского флота подверглись затоплению в далекой шотландской бухте у Скапа Флоу, ибо безумной была их гордыня. И был предан огласке заговор дредноутов, и замерли сердца в надежде на мир, но не знал никто, как подавить оставшихся чудовищ. И стали бояться великие чудища, и затихли на время.
3. Маленькая среди больших
Девочка нервно и вызывающе двигала коленями; подойди она к снующим мимо людям с каким-то вопросом, любой из них дал бы совет вернуться в школу и не быть такой паршивой девчонкой, но, обратив взор на ее длинное и нежелающее выслушивать нотации тело, едва ли посмел высказаться вслух.
Девочка ограничивалась тем, что вопросительно смотрела вокруг, слегка возмущенными уголками рта прикладываясь к большой бадье с кока-колой. А что если она была уже не девочкой?
Девочка, видимо, пыталась найти в окружающих нечто такое, чего не находила; глаза ее были синие и смелые, и трудно было представить среди пыльных прохожих ее отца или брата: она была другой, убийственно другой.
Из высокого чиновного здания вышел напряженный мужчина в негладкой рубашке; жизнь, по всей видимости, не научила его глаза сосредоточенности, но зато лицо его было спокойно, когда он в обыкновенных для покровителя выражениях пожурил ей за помятую юбку и позвал за собой.
— Все будет проще, когда выборы останутся позади. А пока мы делаем все возможное; но эти политические джентльмены непереносимы. Знаешь, наверно, я совсем одуревший соискатель, наверно, никто, находясь в своем уме, не взялся бы за такое – но потом у нас уже не останется шансов.
И, продолжая обсуждать суровые перспективы и ненастоящие надежды, говоривший неспешно проходил рядами канцелярских магазинов, каких-то сонных и засаленых витрин, меж нагруженных фруктами телег, и исчезал на дальней, глухой набережной – в сопровождении высокой, послушно за ним следовавшей, скромно постриженной синеглазой девочки, вышагивавшей то слева, то справа, ненадежно и беспутно, подобно луне, и управляемой, подобно луне, законами странной, мистической обедиенции.
4. Анджелине хочется кушать
— Итак, ты выполнила свое сегодняшнее задание? – спрашивал он, как учитель, у презиравшей школу и не интересовавшейся политикой Анджелины.
Та отвечала односложно. Но Джон знал как найти в ней заинтересованного собеседника. Он начинал обсуждать сладости.
— А почему все эти здания в Вашингтоне такие белые, будто глазированные, как торт?
— А вот именно потому, что до них так сложно добраться, особенно если вести себя безобразно, не делать уроки и не отвечать учтивыми словами самым уважаемым людям нашей страны.
— Да ладно тебе!
— Да, эти тортики должны были украсить место и время нашего рождения как нации. И поэтому в наши дни, как правило, архитектуру сладкой выпечки запрещается использовать. Так же, как тебе запрещается прикасаться вот к этому.
И Джон вытащил из-под брошенного на кресло пальто узорчатый белоснежный слиток с помятым, но весьма массивным куполом из зефира.
— Но я все прочитала, все сделала! Ты говорил, что я должна учить про государственное послание, да?
— Нет. Ты должна была выучить статью “Государственная измена”. Но ты, разумеется, этого не сделала?
— Да, я пока что не успела… Но можно хотя бы маленький кусочек?
— Так это же от тебя зависит, детка.
— Нет, это от тебя зависит…
Он подошел к ней и вз’ерошил ее солнечные волосы, которые тут же пиротехнически вспыхнули в толстом луче из окна.
— …Ну ты же знаешь, я постараюсь!
— Я думаю, ты бы не постаралась. Но этот урок ты должна выучить твердо. Садись напротив. У меня, Анджелина, санкция министра морских полигонов…
И капитан Митчелл стал рассказывать о государственной измене, о коварстве министерства морских полигонов, о консервативных инстинктах американского изоляционизма, о роковом маятнике политических масок, о загадочном советнике японского посольства Резочрево Кровоного, и юная Анджелина слушала рассеянно, спекулятивно поглядывая на торт и на блестевшую с полки шоколадку.
Но когда речь зашла о слиянии богов и монстров, о заговоре рожденных ими стальных титанов, взгляд девочки наполнился страстной созерцательностью молодой искательницы приключений.
5. Последний приказ
— Так что, ребята. для этого монстра большая честь быть казненным ангелами из будущего! Ну, не обессудьте! – говорил Джон Митчелл, снимая летный шлем.
Он только что провел контрольный вылет на лучшей, как он считал, во всей бомбирующей авиации машине. Он получил подтверждение всего, о чем заранее знал: уютная конструкция и хорошая управляемость достигались за счет невозможности нанесения прицельного удара, нехватки грузопод’емности и неприспособленности к критическому маневру.
Но уже не оставалось времени для колебаний; этот день, это золотое солнце было вырвано в жестокой борьбе у правительства и космоса – институций, весьма далеких от непосредственных нужд американской нации.
— Ты – не мешайся под ногами! – крикнул он Анджелине, которая своими круглыми, яркими глазами следила за набиравшими высоту машинами. Не добившись реакции, он схватил ее за руку и по лифту повел в диспетчерский отдел аэродрома, откуда был хорошо виден пляж и поодаль – серый. истерзанный пыханием века трофейный дредноут, взятый у немцев после войны и все еще мерцающий никелированными мускулами, выдающими мнимый характер его беспомощности.
— Ты побывала на летном поле, а теперь, пожалуйста, побудь здесь и постарайся мне не мешать!
— Почему? Почему я не могла оставаться там, рядом с твоими друзьями?
— Потому что ты – маленькая! У меня нет времени тебе об’яснять! – кричал Джонни Митчелл. Девочка послушно опустилась в кресло, со скрещенными на груди руками, и вид у нее был злой и непокладистый.
— Пойми, ты – маленькая! Они – большие! Везде и всегда, большие подчиняют маленьких. Поверь мне, ты еще успеешь в этом поучаствовать…
— Если еще раз скажешь, что я маленькая, я придумаю способ заставить тебя замолчать, – зло и самоуверенно проговорила девочка.
Джонни усмехнулся, но ничего не ответил; он не мог сейчас раздвоить свое внимание; он чувствовал, что достиг высшей точки своей карьеры, и это чувство накаляло нервы и ум. К тому же, авиация еще никогда не получала такого блестящего шанса и, возможно, никогда больше не получит, если цель не будет поражена и затоплена.
— А если и придется идти на крайние меры, то, все же, есть еще надежда на сенатора Эпплбаума, – успокаивал он себя и свою собеседницу. Но если потребуется, отбросив все сомнения, лететь навстречу безумью, звать на помощь планеты и осеннее, обессиленное солнце против всего темного космоса, против плененного и недобитого монстра, сможет ли он забыть об амбициях, преодолеть страхи завзятого карьериста?..
Медленно разгонялись хмурые бипланы, один за другим взбираясь все выше и ближе к луне, один за другим провожаемые отчаянными взглядами Джонни и Анджелины. Но, глядя на их самоуверенное, дерзкое продвижение, капитан постепенно расслабился и обмяк; он уловил в отражении огромного смотрового окна вытянувшееся, бледное лицо Анджелины, серьезное и непроицаемое. На миг он потерял воинственный вой самолетов… Остался лишь стон осеннего моря, далекий, изнемогающий от извечного холода, растерянный материнский стон, подобный гулу тысячи беременных китов.
От этой близости моря стало вдруг холодно, и Джонни обнял девочку, возможно, в последний раз. Все должно было свершиться наконец, а если не суждено и теперь победить, то он сам сядет за штурвал и разбомбит, уничтожит, сокрушит упрямого монстра. “Выше нос, Анджелина! Парни на Кертиссах положат конец заговору. Вот уже подкосили коварного Резочрево, таинственно бродившего по пляжу, вот уже блокировали прилив и осадили луну…”
Стряхнув с себя тяжелый мираж, капитан почувствовал, что все еще обнимает единственную женщину, которую считает навеки маленькой и прекрасной. На горизонте было свободно, исчезли последние облака. Бомбардировщиков уже совсем не видно.
6. Капитан атакует
Не прошло двадцати минут, как до вышки дошел повторный сигнал о провале. Цель оставалсь наплаву, самолеты израсходовали отведенные на операцию боеприпасы; эксперимент нечестивого Джона Митчелла провалился. Но в порыве остервенения капитан, пресекая пределы всех уставов, воинских и гражданских, отказался доложить о конце операции и признать, что будущее авиации, уж конечно, не тянет на “блеск ангельского воинства” его безумных грез.
Как было установлено следствием, спустя 11 минут по истечении срока министерской санкции, в 11 часов 11 минут одиннадцатого месяца 192* года капитан военно-воздушных сил США вопреки уставу офицеров воздушного флота садится за штурвал, поднимает в воздух 11-й бомбардировщик воздушного эскадрона Х и берет курс на латеральный трофейный линкор Принц Иммануил. Означенное судно Американского Флота застигнуто бомбовыми снарядами в 11:23 и по причине многочисленных повреждений уходит под воду к 11:38.
Высокой коллегией суда штата Нью-Йорк устанавливается, что в эти минуты, в порыве полнейшего безумия, капитан имел наглость проявлять неоспоримые признаки неограниченного счастья. И так как капитан сознавал, что ему попытаются помешать в исполнении его фанатической миссии, он злонамеренно приготовил весь свой ум и все свои мускулы к максимальной выдержке и техничности. Перехват был бы, учитывая обстоятельства, смертельно опасным делом для неопытных пилотов, вызвавшихся противостоять Митчеллу. И все это, несомненно, доказывает: в эти минуты подсудимый был счастлив, счастлив всеохватно и преступно; что дополнительно подтверждается последним его устным приказом:
“Вперед, парни, это лучший из всех подвигов, в каких вам придется участвовавать”.
7. Последнее слово
Уважаемый суд, господа присяжные заседатели!
Нет, сегодня мне перед вами не оправдаться. Я отдаю себе в этом отчет.
Право, эта странная процедура, эта кратковременная суверенность, предоставленная голосу осужденного – моему голосу – в эту минуту, вызывает недоумение. Я приговорен; я склоняюсь пред этим приговором. Я желаю оправдывать, но меня принуждают оправдываться; я желаю усмирять и успокаивать, но меня вынуждают раскачивать и возмущать; я желаю установления для вас мира и счастья, но меня толкают к умножению тревог.
Если есть основания дать слово обвиняемому в государственной измене, то по какой на свете логике мне предоставляется это право теперь, когда передо мною ясно маячит эшафот? Нет, никто из вас не ценит моего слова; никто не имеет права ценить это слово! Вы должны безропотно принять тот факт, что доля истины в моих словах – словах преступника – ничто не меняет в глухой вашей душе. Назовите причину, по которой вы унизили мое слово, загнав его в этот ужасный загон!
Нет, я не вижу причины продолжать осквернение слова перед лицом достойных господ, положивших свой ум на служение мертвой процедуре.
Но если бы даны мне были мускулы титанов, я бы обнял, я бы защитил мою благородную республику и освободил ее от стальной удавки, наброшенной войною. Я бы сделал это сейчас, не заботясь о себе самом, об этих вот оковах, об этих стенах и надсмотрщиках. Я люблю эту страну! Но я не желаю причаститься ее будущей славы. Я лишь мечтаю, чтобы она удержалась в безумной стихии наступающих лун нынешнего столетия.
8. Финал
Процедура закончилась предсказуемо, хотя один из присяжных при последних словах приговоренного шумно закашлял, вышел из зала заседаний суда и на удивление скоро стал пробираться к выходу из здания. Почтенные работники правосудия, однако, перехватили его в одном из неосвященных коридоров и сообщили набор этических сообразжений, самое недвусмысленное из которых заключалось в том, что, срывая процедуру на финальной ее стадии, уважаемый джентльмен обрекает все стороны на повторный процесс.
Уважаемый джентльмен, оказавшийся гордым, но самокритичным рыболовом, всегда умел посмотреть на вещи с непредвзятых позиций аморфного евангелизма. Порывшись об’емным кулаком в глубоко эшелонированной бороде, он оценил всю важность момента и вернулся в зал, где от пылких речей обвиняющих и обвиняемого остались только опавшие листья блуждающих взглядов, в которых читались горестная усталость и ожидание конца.
Впрочем, некоторые из присутствовавших сопровождали приговоренного вплоть до самой торжественной его минуты.
К вязкой, сладострастной усталости его добавилась обязанность поговорить со священником, обладателем более художественной талии и чисто выбритого лица, чем большинство участников судебного заседание. Быть может, он бы долго всматривался в предлагаемые ему фотографии головорезов, запечатленных, с веревкой на шее, в позе христианского ритуала. Быть может, он бы глубоко задумался о прекрасном запахе серебряного распятья, подносимого довольно близко к ноздрям. Быть может, в иных обстоятельствах, в порыве изголодавшейся жадности поверив в возможность неожиданного и предсмертного обогащения, он бы целовал эту красивую руку с не меньшим благочестием, чем Бобби Ланрезак, приговоренный за семикратные удары распятьем в темя, сделавшие его легендой, быть может, с не меньшим рвением даже, чем покойный Чарльз Алликен, организатор сатанинских борделей в Новой Англии; быть может, он поцеловал бы священника в губы, если бы вспомнил слышанные в детстве суровые библейские сказания, такие яростные и такие веселые.
Однако Джон не нуждался в священнике, ибо доволен был собственным своим капиталом.
И если бы, под ночным небом Аляски, он не засыпал сладким сном на теплой оленьей шкуре. Если бы не скрывался он в намешливых водах, омывающих сундуки изумрудов в пещерах. Если бы не болтал он ногами с надломанной вершины бастиона неизреченных сицилийских сумерек. Если бы, осыпанной сахаром ночью, не вслушивался он в пение алжирских девственниц, освобожденных и прекрасных, на борту его любезного брига. Если бы не дотрагивался он, смущаясь душой, до влаги вина на губах пульсирующей Анджелины. Если бы не следил он, со спины ее, за причудливо изгибающейся вереницей позвонков, золотистых как грецкий орех…
…В таких обстоятельствах капитан почувствовал бы явственно, что трескается луна, трескается кость и трескается, разрывается связь между секторами его слабой, смирившейся плоти.
Александр Тер-Габриелян