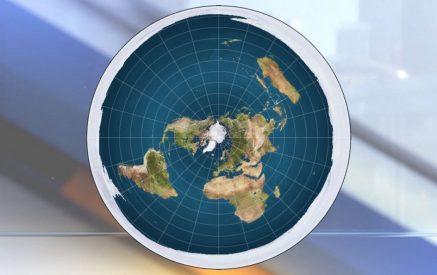Ашот ГАЗАЗЯН
Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы я утром проснулся! Не оставь меня лежать вот так вот в этой постели!..
С блуждающей болью по всему внутреннему периметру головы, резкой болью, время от времени подобно злобному карлику перебегающей в область грудины и несильно, но тревожно сжимающей её, я всё канючил и канючил у Всевышнего, ничего взамен, впрочем, не обещая. Понимал, что не единожды давались мне шансы, которые я использовал совсем не так, как самому хотелось бы, понимал, что и на этот раз не воспользуюсь расположением Бога, но исстрадавшийся вконец непосильным возлиянием мозг, совершенно не готовый собирать мысли в слова, а слова – в мысли, всё канючил одно: «Господи, сделай так, чтобы я утром проснулся!»
Ну не верилось, что можно было проснуться после такого! А ведь сам никому слова дурного не сказал, никому больно не сделал, просто после пива выпил много водки. Потом последовали джин и виски, за которыми и незамедлительно – почему-то совершенно неудобоваримые после пива, водки, джина и виски коньяк и шампанское. Всем было весело, всё было просто замечательно! Процесс столь живого и непосредственного общения в узком кругу славных друзей доставлял радость всем участникам запоздалой встречи с теми, кого любишь не за что-то конкретное, а просто любишь и всё.
Читайте также
Боль пришла потом. А вместе с нею и сожаление – не следовало пиво с водкой мешать да в таких количествах! Не алкоголик ведь в конце концов! Забыться сном не удавалось, в голове не находилось места мыслям, но всё вертелись картины, недвусмысленно напоминавшие о том, что за добрыми речами да весёлым времяпрепровождением, мы успели нарушить добрую половину из десяти заповедей Божиих да предаться всем семи грехам смертным – и чревоугодию, и гневу, и алчности. Потом была похоть, вызвавшая гордыню, кому-то немножко позавидовали и наконец обленились. Словом, разве что никого не убили. Вот унынию только не предавались, точно – утешение, согласитесь, слабое.
«Господи, не дай мне не проснуться утром! Я больше не буду! Я больше никогда ничего плохого не сделаю! В смысле, не надерусь, как собака!»
Я всё просил и просил, канючил и канючил, в тайне надеясь, что Бог бодрствует всегда и так же всегда готов помочь всем своим чадам, даже тем, кто страдает исключительно по глупости своей. По полному непониманию, значит. Я помнил, что у каждого на роду что-то такое написано, и чему быть, того, конечно же, не миновать. Но всё надеялся и надеялся, что наступит наконец ещё одно светлое утро с солнцем, пылью на дороге перед домом да чириканьем птичек, и я снова попытаюсь исправиться…
И я, вы не поверите, проснулся. Правда, ноги почему-то совсем не нашли тапочек. Ни сразу, ни потом. И было такое ощущение, что стою я теперь на расстоянии десяти сантиметров от пола. Потом показалось, что смогу пройти и по воде, как это проделал однажды сам Иисус. Потянулся за очками, чтобы оглядеться полноценно. Что-то глубоко внутри подсказало, что очки мои замечательные мне больше не понадобятся. И потом всё время я понимал что-то новое: не понадобятся мне мои сигареты, не понадобится зажигалка и холодная минералка в холодильнике тоже никогда не понадобится. Зато не было никакой головной боли. Никакой боли не было!
Огляделся. Рядом прохаживались люди в белом и о чём-то очень тихо переговаривались между собой. На меня они не обращали никакого внимания. Более всего смущало выражение их лиц – брови над большими глазами в положении вечной скорби, уголки губ подёрнуты только-только зарождающейся улыбкой.
Я рванулся было к ним, но резких движений не получилось – поплыл, как лебедь на пруду…
«Я вас, блядей, всех замочу! Урою, это я вам говорю, суки!» Двое в белом – с бровями и уголками губ – вели вырывающегося из рук водопроводчика из родного жилищно-эксплуатационного управления. Время от времени водопроводчик замахивался на них чем-то, вероятно, очень тяжелым, видимо, полагая, что ему оставили его большой и ржавый разводной ключ. Потом все трое скрылись за углом общего белого пространства, и оттуда донеслось удаляющееся: «За что-о-о-о!»
Стало страшно. До меня, кажется, никому не было никакого дела. А я бы выпил холодной минералки. Из холодильника. Закурил бы. Порадовался бы хорошему мочеиспусканию. Ведь если мочеиспускание плохое, то и настроение соответствующее. Вспомнил последнее посещение поликлиники. Молоденькая медсестра, которой я сдавал анализы, спросила, как я мочусь. «Стоя!» – ответил я, и долго не понимал, что это её так развеселило…
Мысли, которых стало неожиданно много, разбегались. Не получалось сосредоточиться ни на одной из них. Какое-то время погосподствовала мысль о том, что что-то всё-таки не так, как нужно, но почему, не понималось.
«А может, я ещё не проснулся?» – мелькнуло где-то в области грудины.
Я снова потянулся за сигаретами. И понял – курить мне действительно не хочется. И даже минералки той уже не хотелось. Мне на самом деле ничего не хотелось!
Ни одного знакомого лица вокруг: «А где ребята?» Ходят какие-то непонятные, воздушные, почти прозрачные, с бровями и уголками губ, рассматривают с неподдельным интересом, о чем-то перешёптываются. А я всё стою на высоте в десять сантиметров от той самой поверхности, на которую хотелось бы ступить по-человечески и пройти крепким размеренным шагом уверенного в себе мужчины средних лет… нет, ничего не выходит.
Вдруг показалось, что один из людей в белом подмигнул мне. «Конечно, где-то я его видел!» Потом мысли снова разбежались в разные стороны – мне пришлось напрячься, присесть на корточки, чтобы хоть как-то попытаться собрать их воедино, сосредоточиться на одной из них.
«Где это я?»
Попытался ущипнуть себя за что-нибудь. Здесь, там. Нигде не больно…
Время, кажется, с места и не трогалось – вокруг всё что-то вроде происходило, а ничего как бы и не менялось. И только я хотел перепугаться уже не на шутку, как подходит ко мне один этот в белом и показывает пальцем куда-то вниз: посмотри, мол, туда.
Я посмотрел и поначалу даже обрадовался – телевизор включился! А через какое-то время вижу похороны. Пригляделся, мои похороны. Все там – и ребята, с которыми я нажил свою последнюю жуткую головную боль, теснятся у гроба, и редактор – я ему двести остался должен, потому он, наверно, такой смурной, и коллеги – как много в стране не по делу журналиствующих людей!, родные мои, близкие. Невесёлые такие все. Чувствую, знаю, о чем думают все теснящиеся: «Неужели и меня такие гнусные мысли одолевали!» – в общем, всё, как и положено на всамделишних похоронах…
И поплыли брови мои кверху, стали совсем, как на маске Пьеро, и подёрнулись уголки губ в печальной… нет, в перепуганной улыбке. И подумал: «Вот и проснулся я наконец! Спасибо тебе, Господи!» Но, чёрт побери, как же надрывно больно! Нет на свете ничего печальнее, чем наблюдать за собственными похоронами…
Должно быть, здесь всегда так чисто, тихо, и покойно. И с демографией здесь, говорят, полный порядок. И погода вечно хорошая – все ветры на Земле дуют! Опять же никаких кризисов и потрясений. И всё потому, что дерьмо, как чисто отрицательная грязная субстанция и состояние души, там, внизу, осталось. А хочется в дерьмо, но не получится, знаю, ничего. И жутко от того, что пока неясно, надолго ли я здесь – оставят или отправят к тому водопроводчику-матерщиннику.
Думаю об этом, а по коже мурашки: «Не вспомнят ли мне последнюю встречу с друзьями». Точно, вспомнят всё!
Но даже если и вспомнят, теперь я знаю определенно: какое-нибудь утро наступает всегда. А это уже неплохо…