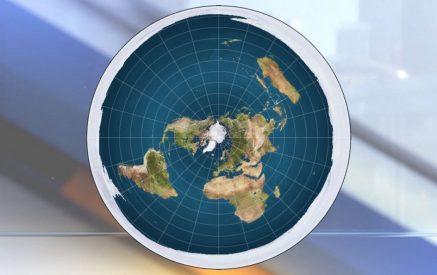Люди всех сословий столпились на главной дороге истерзанной и полунищей страны, которая все еще называла себя империей. Многие думают, что устройство подобных стран изучается знающими людьми в специальных институтах, которые пишут большие книги со смешными названиями, как например: “Кутерьма и опохмеление империи Х.”, но на самом деле жизнь в них протекает так же, как и везде, где есть рассветы и закаты, мужчины и женщины, нищета и излишества.
Оставалось только понять, зачем они здесь, рядом с этой скалой. Вокруг простиралась обширная пустыня, и солнце медленно клонилось к закату. В пустыне, говорят, живут сторонники разномыслия и опасных пророчеств, которых надо изловить и распять, на небе живут сотни ангелов, восседающих на крылатых пегасах, а в солнце живет яростный, непререкаемый бог.
Григорий почесал под железной пластиной коленку и пырнул рукояткой меча настырного плебея, прикатившего небольшую тачку и долго перебиравшего уложенные в нее холщовые мешочки, вертясь прямо под носом у стражника. Согласно последним нововведениям (“dura lex, sed lex”, — пожимали плечами представители правоохранительных органов), акт распятия должен был производиться намного позже обычного времени, а причиной служило то, что подрастающее поколение имперцев обросло жирком и не желало отказывать себе в здоровом послеполуденном сне. Не считаться с этим было невозможно, и поэтому церемонию казни провинившегося в духовном правонарушении злодея и кощунника назначили на три часа позже, а это неизбежно вызывало известные затруднения в работе государственного механизма, ибо подданные империи не держали в себе той злобы на время, которая запечатлена на лицах наших современников, скорее всего, им бы и в голову не пришло измерять его и засекать, а тем более — рубить на абсурдно малые отрезки, подвергаемые обидным насмешкам и дискриминации. Люди не подгоняли течение времени под свои мелочные нужды, не вешали на стенах домов календарей и не носили золотых циферблатов с тремя платиновыми стрелками швейцарского завода. Время было для них переживанием легким, и текло оно легко и плавно, не затопляя ежедневные занятия жителей, не вмешиваясь в их торжественные речи и медленно протекающие, упорным трудом разжигаемые свары, — в древности время еще не научилось дисциплине.
Стража под скалой понятия не имела, когда прибудет процессия с преступником, а палачи не имели понятия, в какой момент им следует забивать первый гвоздь, и никто из обвинителей и сторонников казнимого не имел никаких сведений о том, будет ли присутствовать при исполнении наказания верховное лицо, и возможно именно поэтому, несмотря на возрастающее напряжение, Григорий все последние дни не позволял себе стряхнуть груз забот в разгульных заведениях этого края, ибо в такие торжественные дни, дни праведного негодования в преддверии справедливой расправы, все вовлеченные лица переживали величайший прилив сил и надежд, и было понятно, что надо быть бдительным как никогда.
Как это часто бывало в империи, никто не знал чем заняться, но все точно знали, что рано или поздно они дождутся красочной церемонии, а власти, земные и небесные, пусть как-нибудь позаботятся об остальном. Группой зевак долго рассматривался вопрос о всенародной порке приговоренного фанатика кнутом, и тут уж пришлось вмешаться старшему палачу, который, опираясь на безошибочное свое чутье, пригрозил всему народу фанатичной поркой зевак и тем самым положил конец прениям.
— Старик знает свое дело, – сообщил Григорию его товарищ Исидор. – Я услышал о нем впервые еще во время рабской войны. Многих крепышей прибил на своем веку.
— Но ведь даже он не знает, как толковать новый закон.
— Уж больно все это мудрено для таких, как мы с тобой. И, даром что на руках, ногах и на шее у него кандалы, неспокойно мне как-то… Какой теперь из него преступник? Ни рыба ни мясо – из узилища выпустили, а к кресту еще не прибили.
— Ты прав, старина. – Григорий нервно огляделся, в голове у него внезапно возникла наивная, но совершенно естественная для стражников мысль: а что если побег? Что если какой-нибудь придурок упустит его, а накажут за это всех?
— Кандалы ему не помеха! — снова подбросил дровишек в огонь Исидор. – Ведь он дышит тем же воздухом и ходит под тем же солнцем, что и мы, ты когда-нибудь мог себе представить такое?
— Не мог…
— По мне так это тянет дней на сорок проливного ливня и звездопада.
Стражники, вздрогнув, посмотрели на небо, и Григорий подумал о своей сестре, которая выращивает дивные маленькие апельсины. Если небо рагневается и солнце скроется на сорок дней, то апельсины могут оказаться в числе утерянных навеки растений, подобных коим больше не быть на этой земле…
— Как ты думаешь, Исидор, апельсинам есть место в царстве небесном?
— Апельсинам? Почему бы и нет, ведь апельсины богоугодные растения, они такие округлые и красные, подобно солнцу…
И стражники снова заспорили. В таких спорах проходили минуты, минуты настоящего, неизмеренного и необузданного времени, минуты, которые соединяют утро и вечер, стражников и их любовниц, народ и его императора, минуты, которые соедияют жизнь и смерть… Минуты сменялись другими минутами, более долгими, спокойными и монотонными, но не от того, что стражникам надоедал их разговор, а от того, что в ход пошли самые небывалые анекдоты и самые невероятные слухи о старшем палаче, и не могло быть сомнения в том, что палач этот был особо отобран кесарем, ибо в руцы его была вверена жизнь и смерть преступника, закосневшего во зле, многословного и хитроковарного искусителя, неистового ловца человеков, и стражник Исидор, несмотря на свою молодость хорошо разбиравшийся в людях, в точности запомнил лицо этого опасного человека и не увидел на нем ни тени страха и отчаяния. Как можно дарить такому человеку лишние три часа жизни? Все эти размышления не усиливали веры стражников в праведность имперских установлений, но и не ослабляли ее, ибо в том-то и секрет любой империи, что все от мала до велика, от палача и до преступника ровно и непоколебимо веруют, всею душою веруют в свои права и обязанности, наследуемые из поколения в поколение подобно тому, как плодородные земли и бурные реки, населенные тысячами золотистых жуков и серебристых рыбешек, неизменно переходят от императора к императору на протяжении тысячелетий.
— Моя сестра Сара, – признался Григорий, – моя сестра больше ко мне не приезжает. Она говорит, что этот преступник – обычный человек, почти такой же, как мы, и что наша прабабка тоже умела зажигать всякие предметы от солнца. И еще она говорит, что мне не место здесь, что я зря надеюсь, потому что мне никогда не дослужиться до преторианской гвардии…
— В наше время многие идут на повышение, главное – проявить выдержку в решающий момент. Ты готов проявить выдержку в решающий момент? И вообще, ей-то откуда знать, сестре твоей?
— Не знаю. Во всяком случае, она говорит так. Она присылает мне апельсиновое варение, каждый год присылает, но она больше не приезжает ко мне.
Оба стражника тайком глянули на солнце и быстро отвели глаза. Исидор сказал: “Твоя сестра… У нее широкие бедра? Я люблю когда широкие бедра”. И они снова развернулись в разные стороны, делая обход вокруг скалы.
Прошло еще какое-то время, и Григорий, возвращаясь к месту, на котором они обычно встречались с Исидором, заранее услышал знакомые звуки железных доспехов. Но Исидор так и не появился, Григорию пришлось сделать несколько шагов до поворота тропы и выйти за пределы той линии, вплоть до которой простирались его полномочия, и лишь после нескольких секунд ожидания, бесконечно длинных и иссеченных металлическими звуками, он заметил уже попадавшегося ему на глаза плебея с тачкой, набитой мешочками трав. Лохмотник воровато оглянулся на Григория и стал быстро перекладывать мешочки аккуратными рядами, так что любому стало бы совершенно ясно, что он пытается что-то скрыть…
— Курева хочу, – скорчив кислое лицо, сказал Григорий, как бы обращаясь к чистейшему голубому небу.
Плебей сразу как-то успокоился и произнес с философическим видом:
— Да, трудно с этим сейчас. Но у нас, у деревенских, с этим полегче. Вот вам, господин, попробуйте моей травки, только разрешите одним глазиком на казнь взглянуть, говорят, большой человек будет гибнуть…
Заключив выгодную сделку и не забыв взять дополнительную порцию для Исидора, Григорий прогнал плебея и почему-то строго-настрого приказал ему не опаздывать, возможно, потому, что правоохранительные органы всех времен умеют действовать только тогда, когда весь честной народ, включая преступников, проявляет чудеса пунктуальности.
Вскорости появился Исидор и рассказал о двух подозрительных бабах, которые попеременно кричали о разных неприличных способах зачатия и умоляли допустить их к месту казни. Григорий выслушал его со сдержанным интересом, однако не стал распространяться о повторной встрече с плебеем, ибо Григорий по природе своей был нетороплив, да и зачем торопиться, когда солнце еще высоко, преступник еще не наказан, и двум одиноким стражникам надо думать только о том, как бы заполнить оставшиеся часы ожидания интересными историями и скудными радостями жизни. (Григорий улыбнулся, ощущая приятную выпуклость двух плотных холщовых мешочков за пазухой.)
Отвернувшись от несколько разочарованного его комментарием Исидора, стражник снова зашагал по извилистой тропе вокруг скалы. Сначала он вышагивал стройно и с подобающим его положению достоинством, время от время поглядывая по сторонам. Но затем он внезапно оглянулся, обвел внимательным взглядом всю открывшуюся панораму пустынной долины и тут же выругался, потому что показался себе похожим на недавно встреченного на этом месте плебея с тачкой. Он сделал еще несколько шагов, и левая рука его незаметно перешла с рукоятки короткого меча к просторному внутреннему карману красного плаща, который был вышит сестрой еще на первом месяце его службы, по его настоятельной просьбе, из высококачественной и прочной ткани, и даже не заметил, как солнце в этот момент резким рывком пересекло часть своей небесной траектории и взорвалось на удивление всем в торжественном и многоцветном пожаре, отвлекая внимание случайных зевак, чтобы помочь верному сыну империи реализовать его маленький порок, – и ведь в том-то и заключается скромное обаяние всех империй, что события порою развиваются в точности как в сказке, а время делает невероятные виражи.
Григорий сделал затяжку и выдохнул толстую струю нежно-сизого дыма, который слился с закатным небом, и подумал, что уже довольно поздний час, а еще через пятнадцать минут – и Григорий твердо это знал – ему надо встретиться с Исидором на исходной точке у блокпоста и поднять на древках копий имперское знамя с драконом, недавно заменившее для правоохранительных органов изображение Фемиды. Со старой символикой эпохи расцвета было покончено всего пару лет назад, впрочем, Григорий бы не поручился – новые законы утверждались каждый божий день, и нелегко было уследить за юридической стороною дела.
А при встрече с напарником, поправляя ножны, растирая долго бездействовавшие пальцы руки, устанавливая знамя на вертикально поднятом копье, занимая исходную стойку и дружно, в одну глотку с Исидором, выкрикивая трижды: “Слава империи!”, он полностью забыл о событиях длинного дня. Грядущий апофеоз земной справедливости требовал максимального напряжения физических и душевных сил. Единственное, что позволил себе Григорий в нарушение протокола, это шепотом спросить своего товарища: как он думает, не удостоятся ли они узреть собственную персону императора, хотя бы издали, хотя бы уже после того, как все их парадные обязанности будут выполнены, неужели им так и не придется посмотреть в глаза своему единственному истинному, всемогущему и всеблагому господину?
— Да навряд ли, – не меняя позы протянул Исидор, и в этой короткой фразе нашел отражение глубокий и неподдельный скептицизм идущего в свой последний бой легионера.
Но Григорий был настроен совершенно иначе. “О, знамя драконьей страны! — пела его душа, – Ты только ткань, только ткань между звездами, но ты всегда знаменовало для меня целый мир, весь тот бесконечный простор, который не дано мне охватить орлиным оком, ибо не достоин я двигать легионами, и всю ту бесконечную историю, которую не дано мне объять скудным умом моим, ибо не достоин я!” И ветер развевал плащи стражников, и два золотых дракона взметнулись над головами их, и сферы небесные поменяли свой цвет, и далеко под ними появились первые воины нескончаемой процессии, и заслышался стрекот далеких кнутов, ибо час настал; приговоренный отправлялся в свой последний путь.
…Долго наблюдали стражники за шествием, и секунды пролетали все быстрее, и уже не поспевали за ними многохвостые кнуты, и драконы колышущихся знамен не успевали обменяться ревом, и звезда не успевала упасть – секунды уже не текли, они мчались и рушились неостановимым потоком, бесконечным потоком немых свидетелей, и никакая стража не могла призвать их к порядку, и Григорий понял, что все, что он когда-либо мог сделать, стоя в своем парадном облачении под этим знаменем, – это наблюдать, бессильно наблюдать за приближением конца, и не было у него больше надежды, и не было больше надежды в мире.
— Кесарь! — прошептал Исидор и стуком копья о шлем вернул Григория к жизни.
То была истинная правда, хотя и правда неутешительная, ибо то была, конечно, вовсе не правда, намекающая на истину, глубинную и грозную, сокрытую за многочисленными рядами копий и знамен, кроющуюся где-то в глубине великолепных дворцов и священных катакомб, мелькающую на вершинах пустынных древних гор. То была жалкая правда гибнущей, гниющей империи: вождь в центре небольшой кучки воинов, лишенных стати и достоинства, злобно оглядывающих собственный народ в поисках недоброжелателей… Холодной, усталой улыбкой озарила эта истина склоны скалы и окружающие горы, когда болезненный император, престарелый август, еле удерживаясь в седле, процокал мимо Григория, а за ним и за его преторианской дружиной потянулся крестный путь фанатика, отрицающего солнце, и легла печать великой тени, и надвигалась ночь, и не было конца страданиям и разномыслию.
— Мы видели кесаря, — продолжал бормотать Исидор, побледнев и выпятив грудь колесом. – Мы видели самого кесаря!
Но Григорий видел уже не кесаря, а сгробленную фигуру приговоренного к казни проповедника. Тяжелыми шагами он тащил на себе крест, сажень за саженью, и секунды почти замерли, и не было движения времени, и голубые прожилки дрожали на серебристом небе, как на челе у приговоренного.
Но Григорий уже не видел приговоренного, Григорий видел только его белесые, страшные глаза – факелы горячечного бреда, и его отверстый рот, и с ужасом Григорий ждал той минуты, когда мир услышит крик этих коварных уст, познает полную силу этого крика, не сдержанную ни законами земными, ни боязнью солнечного бога. Но Григорий ничего не услышал, Григорий просто смотрел и воочию наблюдал секунды, и видел своими глазами, как отлетают и испаряются слова смертного приговора, и видел, с отвратительной отчетливостью видел размах палача и удары молота. И когда палач перестал бить, вновь на небе засверкало солнце, словно в насмешку над своим врагом, окруженным толпами врагов и разрозненными тенями устрашенных поклонников, и солнце улыбалось.
— Гляди, какая кривая туша! — услышал Григорий слова одного из своих товарищей, сопровождавших старшего палача. – Нет чтобы ровно повисеть хотя бы минутку…
Григорий видел беспорядочные брызги крови и видел затем, как поднялась живая голова убитого тела, возвысившись над всеми головами империи, и повернулась к смеющемуся, отходящему солнцу, и как в последний раз напряглись изуродованные руки казненного, и тогда среди криков буйной радости и любопытных вопросов зевак, среди всеобщего ликования и восторга Григорий ощутил порыв свежего ветра и к невыразимому своему ужасу увидел пламя на длинных, изломанных пальцах распятого, и пламя неистово танцевало, и солнце уже не смеялось. И пока он смотрел на уплывающее солнце последних дней империи, пламя перекинулось на его собственные, Григория, пальцы и разгорелось, и продолжало танцевать, и перекидывалось на всех, кто поднимал глаза к солнцу, вплоть до самых последних рабов, и жгло беспощадно, и так без конца, до последнего вздоха, до тех пор, пока…
***
Кто-то потряс его за плечо.
— Ты чего тут разлегся! Вставай, вводим публику и журналистов.
Григорий проснулся и пошел к дверям. В зал судебных заседаний суетливо протискивались журналисты, Григорий блуждал глазами по их полузнакомым лицам. Обернувшись, он рассеянно заметил, как в другом конце зала под конвоем вводили подсудимую. Григорий постарался взять себя в руки и больше не засыпать, в какой-то мере ему это удалось, однако за внешней бдительностью скрывалась глубокая усталость, его непреодолимо клонило в дрему.
Он очнулся только после того, как в зале появилась судья:
— Именем Российской Федерации, Басманный окружной суд города Москвы приговорил…
И Григорий с тревогой почувствовал, что в воздухе запахло жареным.
КОНЕЦ
Александр Тер-Габриелян
Фото — board.kompass.ua